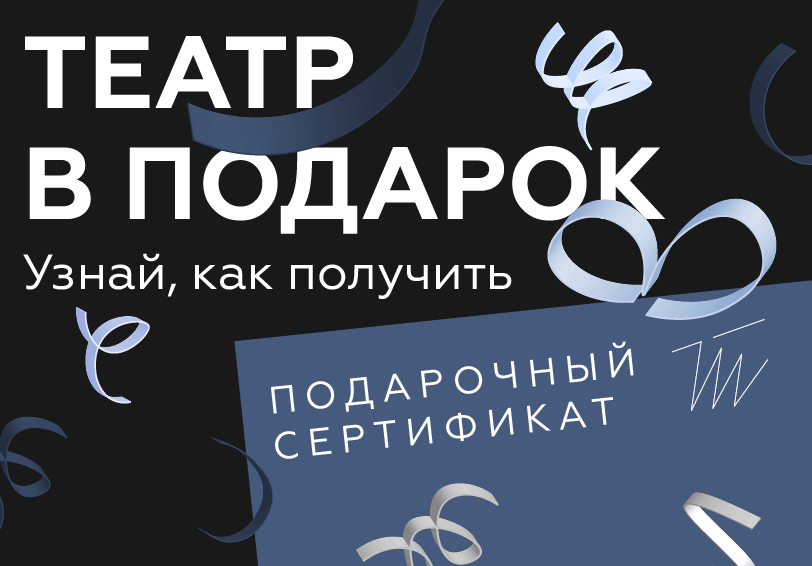Новости
Новости
24.01.2018
Тройная бездонность Вячеслава Виттиха
Аполлинария Зуева
Размышления по поводу нового спектакля областного драматического театра (Н. Коляда. «Птица Феникс»)
Две актерские пары, нанятые новым русским для увеселения гостей на дне рождения пятилетнего сына, и увязавшийся за ними немец (тоже актер) — в ожидании своего выхода на сцену-однодневку. Вот, собственно, и весь сюжет пьесы.
Тексты Николая Коляды, густые, плотные, насыщенные — коварны: они самодостаточны, казалось бы, даже вне сценического воплощения. О чём, кстати, и сам автор проговаривается неоднократно.
На сцене Калининградского областного драматического с ними великолепно справляется квинтет актеров в составе Надежды Ильиной, Любови Орловой, Владимира Корчукова, Василия Швечкова (мл.) и блистательного Анатолия Лукина. В том, что роль Лукина в спектакле «Птица Феникс» — его очевидная звёздная роль, сомневаться не приходится. Более того, в этом спектакле счастливо сошлись режиссер-постановщик Вячеслав Виттих, тонко и прочно чувствующий Слово, и Анатолий Лукин, наделённый аналогичным даром, а также даром обрушивать это слово на (в) наши души.
Заявленная в афише как «комедия из актёрской жизни», пьеса Н. Коляды, конечно же, не только об актерской жизни. О нашей с вами она жизни, дорогие господа-товарищи. И — не совсем комедия она. А точнее, совсем — не комедия!
Это мы, вместе с актерами, сидим в клетке. Какая метафоричная сценография: в ремарках оригинала — кирпичный забор, у Виттиха — времянка алюминиевая: легко пробиваемая, но раз поставлена — значит, забор, а раз забор — значит непрошибаемый. Вот и сидим мы с вами по жизни во временно непрошибаемом заборе, изредка картинно — как один из героев спектакля — барабаним в этот забор, который нагородили сами вокруг себя, которым закрылись. От чего? Да от всего, пожалуй. От жизни, прежде всего, что сами себе построили, а теперь вот жалуемся на неё.
Ёрничаем вовсю, словами так и жонглируем. В совершенстве овладели умением наотмашь отхлестать, подковырнуть, подкузьмить, хлёстко отбрить. И раним, и язвим, и жалим, и колем, не задумываясь. «Актер, — говорит один из героев, — от словес спасается Словом». Только вот перемешаны давно они в жизни нашей, словеса и Слова: «Все смешалось в доме Облонских. И Пугачева, и «Фауст», всё в кучу, прикиньте» — такой вот невесёлый диагноз.
И сидят на сцене пятеро актёров, которые играют пятерых актеров. И я (зритель) считываю неожиданно один из посылов этого многослойного спектакля: да, все мы — актеры, лицедеи. Большие и малые. В большом и в малом.
В числе немногочисленных персонажей пьесы — две семейные пары. Вроде давно — в одной упряжке. На сцене — рядом, в семейном пространстве — рядом. Но — как бы рядом. На деле давно — сами по себе. Давно — отдельно. Как и все мы, собственно. Ищем чего-то — внимания, тепла, ласки? И невдомёк нам, что где же они возьмутся, если в нас этого нет. Того, чего ждём и требуем от других. От жизни, в конце концов.
Но, говорит актер Максим, «неохота жить — лучше мечтать». Вот и промечтали, кажется, всю жизнь. О чём вот только?.. О птице Феникс? «Она пяти цветов, не мужчина, не женщина, не питается ничем живым, только росой, у неё шея золотистая, в хвосте розовые перья, они режут кости и камни, они крепче стали и булата, раз в пятьсот лет птица сгорает! Чувствует, что помирать, сядет в гнездо, ждет, оно загорится, и она с ним! Вот и я так хочу!». Но — не получается. Ни сгорать, ни мечтать. Мечтается, в лучшем случае, о визитных карточках или о «красиво потрахаться с женой в чужом джакузи». Такая вот убого-кастрированная романтика получается. Хотя, разумеется, плюс, что всё-таки — со своей женой...
Пьеса — как это ни парадоксально звучит — состоит... из монологов. Все персонажи произносят монологи. Длинные и короткие. Нет, они, конечно, общаются друг с другом. Но по большей части — не слышат друг друга. Как и все мы, собственно. Как и все мы...
Может быть, для того, чтобы вернуть нас к слову, как к истине, как к единственной форме общения (чтобы не было того, во что сейчас погружены: говорим одно, подразумеваем другое, думаем о третьем...), так вот, не для этого ли в текст пьесы, перенасыщенной бытовой лексикой, с посылами к ненормативам, автор включает — как залетевшую невесть откуда Птицу Феникс, а Анатолий Лукин филигранно произносит их — строки одного из самых мистических поэтов Серебряного века, Зинаиды Гиппиус:
Тройною бездонностью мир богат.
Тройная бездонность дана поэтам.
Но разве поэты не говорят
Только об этом?
Только об этом?
Тройная правда — и тройной порог.
Поэты, этому верному верьте.
Только об этом думает Бог:
О Человеке.
Любви.
И Смерти.
Мы ведь тоже думаем о Человеке, Любви и Смерти. И верим в Птицу Феникс. Ту, которая в финале пьесы, всё-таки роняет на сцену перо. Как пишет в последней ремарке автор, «Артисты склонили головы, будто поклонились разом зрителям, склонили головы и посмотрели на перо у их ног. Стоят, улыбаются, будто говорят сами себе: «А ведь и правда – она есть, эта странная Птица Феникс». Конечно, есть. Вон она летит, видите? Летит».
И на какой-то самый маленький миг нам кажется, что мы видим, как она, действительно, летит!
И опять я возвращаюсь к Анатолию Лукину. Он — внутренний нерв спектакля, дирижер и властелин того Слова, которое является сутью пьесы. С обнаженным словом, когда оно не заслонено прихотливыми драматургическими ходами, справиться, ох, как непросто. Вроде и сам автор уже отказывается понимать: «Стоят на коленях и плачут и не поймешь – то ли они всерьёз, с кровью всё это делают, на разрыв вен, жил своих, то ли снова что-то играют?..»
Анатолий Лукин точно ведёт свою роль на высоком градусе пронзительной искренности, не допуская ни малейшего крена ни в дешевую патетику, ни в слезливую истерику. Его обнаженное, ранящее и ранимое слово предельно откровенно. И поэтому разыгранная его персонажем забавная полупьяная сцена прощания с театральными подмостками, которые после одноразового представления разберут навсегда, превращается в сакральный ритуал признания в любви к профессии, к слову, которое — и суть актерской профессии, и суть человеческих взаимоотношений. Пятеро (сначала четверо, а потом — и немец, туда же, с ними заодно!) по очереди дважды (!) целуют сцену! Да обхохочешься! Мне, зрителю, смешно до колик должно быть. А в зале — напряжённая тишина. А у меня, у зрителя, холодок по спине, и я вжимаюсь комочком в кресло, и понимаю, что так вот и нужно жить — на пределе искренности и любви.
И пусть я понимаю это, может быть, только те недолгие минуты, пока длится эта сцена, и напрочь забуду в ближайшем антракте. Но были же эти несколько минут, которые некогда именовались катарсисом!.. И в этом самом катарсисе — мистическая суть взаимоотношений театра со мною, зрителем.