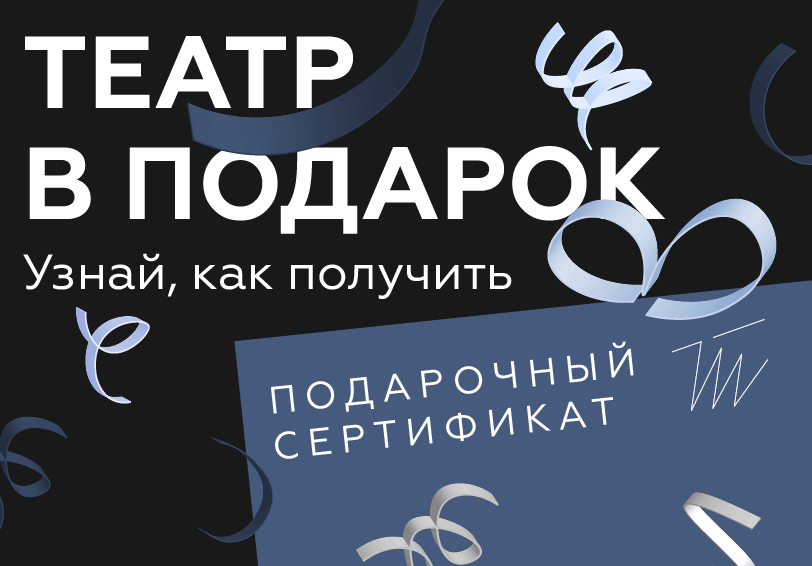Новости
Новости
07.04.2018
Луч света в прусском царстве
Не знаю, был ли знаком Герман Зудерман с творчеством своего русского коллеги Александра Островского, но его пьеса «Огни Ивановой ночи» в Калининградском областном драматическом театре оказалась до жути похожей на «Грозу». Стоит только поменять «луч света» Катерину на то ли цыганку, то ли литовку Марикку, ее свекровь Кабаниху на прусского помещика (и приемного отца героини) Фогельройтера, «затюканного апостола» Бориса на его немецкий аналог, мир русского православия на протестантизм, а волжский Калинов на какой-нибудь довоенный Гвардейск (или Советск, что ближе к истине), и мы получим полное представление о том, что может произойти и происходит на сцене. Да, не забудьте поменять нашу грозу (атмосферно-символическое явление) на почти нашу «Иванову ночь» (календарно-символическое явление) и вам не придется даже переписывать финал. Он в точности копирует нашего классика. (Разве что возникает вопрос, где в нашей области можно найти подходящий для трагического финала утес, но, предположим, что это был мост Королевы Луизы.) В чем причина таких параллелей: хотел ли режиссер Ральф Зибельт поставить немецкую пьесу для русского зрителя, или прочитать немецкую пьесу по-русски? Возникает ли при этом межнациональный диалог, и возможны ли контрапункты в этом диалоге? Наконец, чью сторону в споре культур выбирает сам режиссер? Все это может быть темой отдельного и весьма обстоятельного разговора…
Впрочем, те, кто поспешил увидеть в постановке традиционную любовную мелодраму, эдакую «лавстори», не так уж и погрешат против истины. Режиссер действительно сосредотачивает внимание прежде всего на любовном (хотя любовном ли?) треугольнике, вынося фабулу пьесы в буквальном смысле на авансцену. Он отсекает, ну или существенно ослабляет, другие сюжетные линии, нещадно купирует текст, подчас намеренно разрушая смысловые скрепы, так тщательно возводимые автором. Иногда освобождение от бытовых и прочих подробностей дает возможность спектаклю «дышать». Иногда сбивает зрителя с толку. И тогда простая и в общем-то незамысловатая последовательность событий (девочка любила мальчика, мальчик отвечал ей тем же, но они не догадывались об этом, а потом они выросли, и мальчик «выбрал другую», а девочке выпало стать «ивановой невестой» и прожить в любви до самой смерти, вот только дату этой смерти ей предстоит выбрать самой…) грозит обернуться чем-то большим и значительным.
Отчасти такой подход во многом спровоцирован самим Зудерманом. В своей пьесе, вышедшей в 1900 году (Кстати, в этом же году выходят «Толкование сновидений» Фрейда и умирает Ницше.), он пытается удержать равновесие меж двух веков. От прошлого в ней тяга к социальной, не сказать бы натуралистичной, драме с ее линейным нарративом и стремлением объяснять каждый чих героя, оборачивающимся иногда чрезмерным многословием. От будущего – символизм образного ряда и идеи, которыми живут ее герои. Текст буквально пронизан аллюзиями на Ницше и Вагнера, а Фрейд в компании с Вебером и Фуко задает границы интерпретации происходящего. Которым собственно и пытается следовать режиссер.
Ральф Зибельт стремится возвести банальную драму человеческих отношений в ранг высокой трагедии (обычно бывает наоборот). Или даже так – пытается увидеть здесь «рождение трагедии из духа музыки». Один из героев пастор Гафке говорит про мелодию, которая звучит у каждого человека. Вот эту-то мелодию (или мелодии?!) режиссер вытаскивает наружу и отдает ей право определять судьбы персонажей. Отсюда и то самое ослабление сюжетных и смысловых переходов, когда единство рисунка роли определяется не внешними обстоятельствами, но особым внутренним пафосом собственной правоты героя. И особый симфонизм, «оперность» музыкальной партитуры спектакля. Здесь конфликт лежит не в плоскости межличностных отношений, но в вечной борьбе двух начал - логоса и хаоса, жизни и смерти. Или смерти и жизни. Это отчетливо заявлено в сценографии (Большое спасибо Софии Корчинской!) спектакля – перед нами мир, в котором каждый должен иметь свое место и в то же время – это мир возрастающей энтропии, мир, где логос протестантской этики должен смениться хаосом грядущей «смерти бога», помноженным на уже обретенный хаос человеческой экзистенции. Порядок как предчуствие катастрофы, или катастрофа, стремящаяся обрести собственную логику. В таком мире глупо стремиться жить, глупо приносить себя в жертву… А, кстати, что означает «луч света» в переводе на греческий. Знаете? Знаете… Ну вот так-то…
Виктор Кондаков